…отцовский запрет уже живет во
мне, поскольку в это же время я учусь говорить.
Юлия Кристева
I.
Впервые Оля заявила о себе, когда плавала в утробе. Она была меньше блюдца, и мамин живот долго хранил молчание. Так продолжалось бы и дальше, но маме пришлось сеять картошку. В Алексине, в нашем саду, где росли яблони и тени, где дети читали Жорж Санд и подслушивали, о чем говорят цветы. Voilà l'enfant curieux qui nous écoute!
Так вот, я была деткой, а Оля не была и младеницей, но уже стала упрямой и сильной, как косуля или диссидентка. Она так сильно тужилась, пока плавала в околоплодных водах, что вытужила из маминой утробы алое и вязкое, но не как глина, а как кисель. Все текло по бедру и капало — прямо в ямку, куда опускают прошлогоднюю гниющую картофелину, чтобы та плодоносила.
Мама истекала — сначала кровью, а потом слезами. Она плакала, потому что успела полюбить свою храбрую девочку.
Потужившись, Оля решила сидеть в утробе до последнего и иногда заявляла о себе, особенно, когда разрослась: то выпячивала ступню, то пиналась ладошкой. Оля уже тогда была настоящей, человечицей — так решила мама. Но были другие, бабушка, дедушка, люди отца, и им не хотелось, чтобы Оля стала настоящей. Они шипели как надутые индюки и говорили: прочь из чрева!
Впрочем, маме было все равно на шипение (ведь она писала книгу!), и через много-много дней Оля вытащилась наружу. Когда мне принесли ее, завернутую в конвертик из одеяла, я подумала, что это кукла, и дернула ее за красный волос (сейчас он надежно спрятан в складках моего паспорта). Но я не со зла, я все-таки была малышкой. Потом мы много дрались, кусались и таскали друг друга за волосы, но всегда мирились, и я говорила Оле: ты моя сестричка. Только меняла «р» на «л», чтобы выкорчевать из нутра отцовский закон. Речь отца всегда была отчетливой и холодной, как металлическая пластина в мороз, и я восставала против нее, коверкая буквы, расплетая слова — такими были мои первые, детские языковые игры. Они не прошли бесследно, отпечатались в речи, и порою являются тем, кто умеет вслушиваться, приводя за собой мягкие гласные и одну графему.
Был еще случай. Похожий, но не совсем. Утроба опять набухла, в этот раз незаметно. Это уже не была никакая не будущая человечица — всего лишь неясная угроза в животе. И мама пошла в абортарий при гинекологии, где когда-то работала — ведь все знают, что моя мама настоящая врачительница и ведьма — и влажный сгусток растворился в стерильности женской палаты, расщепился до неуловимых фрагментов, исчез. Близилась ясность: мамина утроба стала самой настоящей либертаркой, а мама — анархисткой-садовницей.
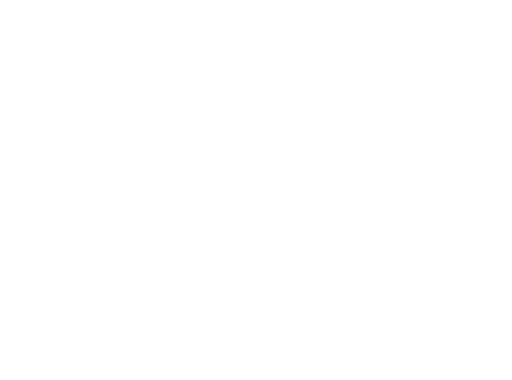
II.
Была одна проблема: мама перестала писать слова. Пришлось писать мне. Таков был ее наказ: когда мы засыпали, размотавшись в простынях, она пела казачью колыбельную. Она пела, что я обязательно узнаю бранное жилье и, когда стану богатыркой, буду готовиться в бой, то есть приближусь к границе помутнения разума. Я хотела стать настоящей богатыркой: решила отыскать всех исчезающих бабушек и заодно провести пограничную линию, удаляющую меня от отца.
И вот в 25 лет я поехала в город, где распяли Христа. Я думала, что там разверстая пустыня, а оказалось — Святая Земля трех миров, в которой я копалась, как в песочнице. Погружаясь в ее зыбкое тепло, я нашла первую потерянную истеричку, которую извергли из Книги Книг. Пока я стояла по щиколотку в водах Генисарета, Магдалина разразилась воплем:
Почему ты судишь меня, хотя я не судила? Я была схвачена, хотя не схватила. Меня не познали, я же, я познала, что все подлежит разрешению, будь то вещи земные, будь то небесные…
Я вернулась домой и рассказала все отцу. Est-il possible que Jésus parlait à une femme à l'insu de ses disciples?! — воскликнул он. Хорошо, что Мария этого не слышала — она бы точно расплакалась словно младеница. Тут явился добряк Левий и вступился за нее. Он сказал отцу: «Спаситель знал ее очень хорошо. Вот почему он любил ее больше нас. Ayons donc du repentir!» Папа сделал вид, что не устыдился, но я знала, что он томится внутри. Я не подала виду, не обнажила своей любви к нему, а изошлась молчаливым криком и, обезумев, бросилась бежать.
III.
С нами сделали то, что было решено задолго до нашего начала.
Поэтому я и Оля неистово терзались, наблюдая боль и насилие, слушая, как ночь наполняется детскими криками. Мы сами творили их, а может это был наш отец — сейчас уже сложно понять, кто на самом деле издавал вопли. В любом случае, мы бились в агонии, и в этом не было красоты, только отсутствие тела, трепет угрозы. Абсолютная нагота — никакого укрытия от ударов.
Такое случалось часто, еще до зачатия. Не было ни матери, ни отца, была пустота густого воздуха и ногти бабушки, врастающие корнями в алексинскую почву. Она не знала того, кто это сделал, только звон и цикорий, алюминиевые трубы химзавода и запах разложения жасмина, заслонивший acte de violence. Это стало нашим наследством, сакральной реликвией. Ее передавали каждую неделю, вдалбливали в наши пустые тела. Мы были прилежные ученицы, мы запоминали.
Оля выучила урок первой. Только почва была видная, видновская, никакого жасмина — картонные листья репея, неловкое сцепление цветка с платьем. Я, глупая, непоседливая, капризная, enfant terrible, таилась до последнего. Но никогда не знаешь, где прячутся стихи. Диссоциация настигла меня в собственной постели.
IV.
Помнишь, как кровать обернулась колыбелью, а я — младеницей? Нацепила розовые атласные ленты, хотя это было уже после Марии, полный coquette.
На самом деле, это все не из-за отца, а из-за Лакана. Он как-то сказал мне: «Наилучший способ приблизиться к утраченному — это представить его себе в виде частицы тела», и я, неразумная, поверила. Пришлось все обклеить розовым, даже кутикулу и корни волос, хотя душа моя изливалась наружу и обнаруживалась перед теми, кто учится угадывать — немногим, но, в том числе, и тебе. В тот раз я села на пол, нагая, и представила маленькую внутри, потому что ее отняли. Обвивалась шелковыми нитями, пряталась в кукольный кокон, пока не переродилась в самую сладкую девочку исчезнувшей страны.
Теперь я живу в пещере. Тут есть разбавленное вино, жуки-носороги, красная жабка и степень магистрки печальных наук. Каждый вечер мы упиваемся истерикой, ревем как бескрылые феи. Сирены, Антигоны и Электры приходят в гости и желают подружбы. Мы устраиваем шабаш, молимся лесбиянкам, чтобы обернуться зоркими матерями.
Нам приходится брать все в свои руки, разжигать пламя, пожирающее отцов и их пустые подчиняющие слова. Это не насилие, только эпистемологическое неподчинение в его сухом изводе. Порою я даже стремлюсь к самосожжению, но пугаюсь и вовремя остраняюсь — вдруг запишут в родословной, передадут нашей дочери по наследству?
Я не стала садовницей, как она, она лучше меня — бунтарка. Мой удел быть хранительницей пепла. Никакого избавления, только возмездие. Самое время вырезать им языки.
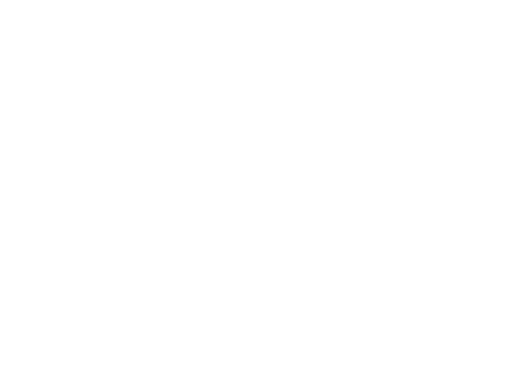
Родилась в 1998 году в Новомосковске. Магистрка филологии (РГГУ), гендерная исследовательница, писательница. Сокураторка проекта «кружок гендерных свобод» и редакторка Feminist Orgy Mafia. Тексты публиковались в «Незнании», «Прочтении», «Транслите» и др. Ведет канал «пограничное письмо»
Авторка выражает благодарность Тане Борисовой за помощь с переводом на французский.

